13 марта 1893 года родился Исаак Петрович Махлис — художник «Ленфильма», начавший свой путь в кино в 1917-м и закончивший в 1953-м, работавший с Бауэром и братьями Васильевыми, учившийся в Париже и сидевший в лагерях. О человеке и эпохе, в которой он оставил свой след, рассказывает Василиса Болдышева.

Обладатель «парижской выучки» и «наиболее последовательный экспрессионист» — так называет Петр Багров художника-постановщика Исаака Петровича Махлиса. Он работал в кино с 1917 по 1953 год, иногда его (вместе с Евгением Енеем и Николаем Суворовым) причисляют к «ленинградской школе» художников-постановщиков, возникшей в 1920-е годы на Севзапкино (будущем «Ленфильме»). Но как Махлиса ни называй, ему тесно в этих рамках. Махлис вобрал в себя все, что могло предложить ему художественное горнило начала ХХ века: академическое искусство, дореволюционное кино, страсти европейских «измов» и эксперименты советского авангарда.
Попытка реконструкции
До 1911 года Махлис учился в Харьковской художественной школе, основанной на базе студии Марии Раевской-Ивановой, где первостепенную важность придавали крепкому академическому рисунку. Ее преподавательский подход был продолжен выпускниками Академии художеств — Сергеем Досекиным, Михаилом Беркосом и другими художниками, в разной степени испытавшими влияние импрессионизма. Высока вероятность, что Махлис был их учеником, и влияние на него Парижа началось уже тогда.
Париж давал о себе знать в Харькове не только через импрессионизм, но и через модернистские настроения. Кружки и открытые студии модернистов начали появляться в Харькове в самом начале века, а открыто об их преемственности фовизму и постимпрессионизму заговорили в 1907 году в связи с деятельностью группы «Голубая линия». Возможно, заканчивая свое обучение в Харькове, Махлис уже был отчасти знаком и с этими веяниями Парижа, куда вскоре он уехал учиться.
Продолжил ли Махлис обучение в главном заведении Парижа — Школе изящных искусств — или в одной из многочисленных частных студий, точно не известно. Вероятнее второе. Но, будь то Академия Жюлиана, Коларосси, студия Фернана Кормона (наиболее популярная среди русских студентов) или другая альтернатива Школе, — все они давали Махлису возможность посещать живописные и скульптурные классы под руководством мастеров французского салонного академизма. «Салон» (в лице Жюля Лефевра, Вильяма Бугро и прочих) тяготел к историко-мифологическим композициям с акцентом на богатых интерьерах и барочной пластике человеческих тел. На первом крупном кинопроизводстве — съемках «Господ Скотининых» (1926) (по мотивам «Недоросля») — Махлис проявил свою любовь к этой «капиталистической» помпезности. Режиссер Григорий Рошаль вспоминал:
«Весь быт поросячей сытости, скупости, топорную мебель, сколоченную крепостными, и идиллических амуров на брачном ложе Простаковых — все выдумал Махлис. Так же как он выдумывал правдоподобные и все-таки невероятные кареты, рыдваны и даже реквизит: кувшины, чашки, подушки и т. д. <…> Махлис был рисовальщик. Его интересовал рисунок образа, вплоть до силуэтной его выразительности. Он пытался создать графическую музыкальную композицию из предметов, гримов людей и даже конских упряжек».
Утерянный фильм «Премия мира» (другое название — «Женитьба Яна Кнукке») (1934), судя по фотографиям декораций из личного архива Махлиса, послужил для него поводом для масштабной скульптурной работы. Вьющиеся мелким бесом складки совсем не похожи на крупный модуль советских скульптурных драпировок.

О первых опытах Махлиса в кино известно только то, что они случились на студии Александра Ханжонкова в 1917 году, и, вероятно, он мог участвовать в создании фильмов Евгения Бауэра (за год студия выпустила четыре его фильма).
Стиль
Линия проявляет эпоху. И Махлис умел подстраиваться под ее запросы. Извивающуюся линию модерна, которую киновед Андрей Буров связывает с дореволюционным кинематографом, и, в первую очередь, с Бауэром, Махлис ведет, когда нужно изобразить мещанский мир — это образцовый пример того, как барочно-модернистская линия, если и используется в советском кино, то по соображениям уже не чувственного, а политического пафоса. Даже больше, чем в кинодекорациях, линия заявляет о себе в махлисовских эскизах — то ли атлант, то ли ангел отрисован в витально-возрожденческой манере, анатомически выверенной, но в духе «быстрого карандаша». Здесь плоть побеждает кость, чего не скажешь о рисунках, явно воспроизводящих рубленые штрихи немецких экспрессионистических линогравюр и рисунков с упором на конструктивное построение, будь то наброски мебели и реквизита или карикатурные портреты.

Еще одна мысль Бурова — барочная линия вьется в горизонтали, а линии раннего советского кино «устремляются вверх», становясь строго параллельными или перпендикулярными. Всю силу, с которой пространство может быть геометризовано, Махлис выразил в декорациях к фильму Льва Кулешова «По закону» (1926). Тут линия никуда не стремится — она замыкается в куб, и это редкий пример герметичной декорации Махлиса. Его сооружения чаще всего возвышаются над человеком.

«Его превосходительство» (1927), «Каин и Артем» (1929), «Спящая красавица» (1930), «Возвращение Натана Беккера» (1932), «Женитьба Яна Кнукке» (1934) по сохранившимся кадрам показывают двойственность махлисовского приема. Прямой графике и чертежной линии новой идеологии он противопоставляет окружности и завитки. Эта игра ритмов заметна в декорации базарной площади в «Каине и Артеме». Устремленные вверх параллельные линии существуют в противовес всему округлому — аркам, бочкам и окнам трактира. Такой декорация предстает лишь в нескольких сценах, в остальное же время она намеренно перегружается чрезмерным количеством деталей ради того, чтобы задать оппозицию между хаосом рынка и аскезой революционного подполья. Надо полагать, что это незатейливое идейное столкновение было инициировано в большей степени режиссером Павлом Петровым-Бытовым и его экспериментами с ассоциативным монтажом. Конфликт монтажных кусков проистекал из бутафорского конфликта. То была цель режиссера. А на декорации Махлиса надо смотреть масштабно, «цельно», как говорят художники.


«Чапаев» (1934), для которого особое значение имели натурные съемки, казалось бы, не должен располагать к махлисовским играм в модерн. Но удивительным образом они происходят и здесь. Кроме 820 покадровых зарисовок Махлис сделал серию рисунков с разработкой будущих персонажей. О Махлисе пишут мало, но если пишут, то практически всегда выделяют именно эти рисунки, выполненные по принципу негатива — белым по черной бумаге. Но в этом приеме нет ничего удивительного. Подобное решение объяснимо желанием как можно сильнее приблизить эскиз к последующим реалиям производства — из-за частого недостатка осветительной техники в кино того времени преобладают темные оттенки, а освещение в контражуре было доступным и эффектным приемом. Этот графический ход Махлис еще не раз задействует в своих эскизах к фильмам «Солистка балета» (1947), «Александр Попов» (1949) и «Смерть Пазухина» (1957). И снова линия вызывает наибольший интерес. Преимущественно округлый мягкий штрих, ложащийся по форме человеческого лица, соперничает с более редкими жесткими прямыми. Работает все тот же компенсаторный механизм: геометрическая строгость ландшафта и простых деревянных построек (мост, штаб дивизии Чапаева) и даже острые плечи чапаевской бурки взаимодействуют с закругленными линиями живого тела, начиная от блестящего затылка полковника Бороздина и заканчивая усами начдива.
В 1937 году Махлис был репрессирован и вернулся на «Ленфильм» только в 1944 году. Возвращение к работе было быстрым: друг за другом вышли «Небесный тихоход» (1945), «Солистка балета» (1946) и «Золушка» (1947). Но были и нереализованные фильмы — «Испытание» (1944) и «Наши песни» (1950) — о которых можно составить представление по эскизам. Первый, судя по всему, рассказывает о подвиге тыла, второй — о чем-то, происходящем в высоких кабинетах. Высоких, широких, очень глубоких кабинетах — замыслы Махлиса сами по себе принадлежат «большому стилю» и всегда стремились к наибольшей пространственной свободе. Время «большого стиля» в глазах Махлиса, как и многих репрессированных, должно было дискредитировать себя. Стало быть, и его изобразительная величественность тоже. Но Махлис остается верен монументальности своего стиля, превозносит пространство и время тоталитаризма, все так же сочетая две линеарные стратегии. Но с оговоркой: витиеватая линия (в виде замысловатой мебели, парадных лестниц, светильников и т.д.) теперь не столько обслуживает баланс жесткого и мягкого, советского и дореволюционного, сколько выступает в роли того самого экспрессионистического жеста, скорее, французского по духу, чем немецкого. Эта психически неустойчивая природа его округлых форм роднит Махлиса с французскими экспрессионистами — Хаимом Сутином, Жоржем Руо и норвежцем Эдвардом Мунком, пережившим влияние Парижа.

С Жоржем Руо Махлиса объединяет и любовь к цирку. В работе над «Его превосходительством» Махлис «позволил себе сохранить свою гротесковую манеру только в сцене клоунов». Все у него с какой-то пугающей издевкой — даже трудовое соревнование по укладке кирпичей происходит на цирковой арене («Возвращение Натана Беккера»).
Кадр из «Небесного тихохода» (1945) демонстрирует махлисовский протест: кругленькие, как бы воплощающие пороки тирании купидоны, о которых уже было сказано в связи с «Господами Скотиниными», перепорхнули в кино о летчиках-победителях. И особо экспрессивная деталь — кресло-качалка. Такое в России можно было купить до 1917 года в мебельной фирме «Братьев Тонет», и до революции подобные «венские стулья» не были редкостью. Но не дает покоя стилистическая неуместность этого символа уюта в фильме о войне. Вспоминаются слова Александра Пятигорского о сталинском ампире — архитектуре, в которой «феноменальным образом слиты абсолютная власть и комфорт. Правда, это все не про тебя…».

Невысказанное
Особенно важна для Махлиса еврейская тема, о которой, вероятно, он сказал меньше, чем мог и хотел. Судя по его живописи (картинам «Свадьба в местечке» и «Старики») и иллюстрациям к статьям о еврейском театре, фактура местечкового быта привлекала Махлиса сильнее, чем позволяло выразить кино. С приходом советской власти художники еврейского происхождения начали говорить о том, что подлинное национальное искусство должно выразиться в отказе от национальной специфики. Изложенные в текстах Лазаря Лисицкого и Иссахара-Бер Рыбака («Пути еврейской живописи») идеи о растворении еврейского в авангардном движении и абстрактной форме дают о себе знать в, так скажем, этнографической вненаходимости персонажей Махлиса. Еврейскость, некий color local, в уже перечисленных «Его превосходительстве», «Каине и Артеме», «Возвращении Натана Беккера» и несохранившемся «Человеке из местечка» (1930) (оформлялся под руководством И. А. Шпинеля, от фильма осталось несколько кадров) продиктована, скорее, сценарием, а не декорацией. Существовали ли в советском кино иные примеры? Полагаю, «Еврейскому счастью» (1925), оформленному Натаном Альтманом, удалось быть более многословным и натуралистичным.
Зарисовки местечковых домов показывают то, каким скрупулезным Махлис был рисовальщиком и исследователем. Подтверждением тому является акцентирование традиционных архитектурных элементов еврейского жилища. Это, например, «ганек» — выносная галерея перед домом, или «сукка» («куща») — разборная крыша над трапезной.

Описывая могилевскую синагогу, Лазарь Лисицкий пишет: «стены — деревянные, бревна — дубовые, звенят от удара. Над стенами — дощатый потолок в форме шатра. Все швы на виду, никакой уловки, никакой хитрости плотника». Полагаю, восторг от этой детали — нескрытой сделанности — разделил бы и Махлис. По крайней мере, в тех немногочисленных кадрах, где у него была возможность изобразить местечко более натуралистично, он делает это без всяких хитростей — покореженные крыши и покосившиеся заборы — то, что Махлис внимательно изучал на бумаге и холсте, он перенес в несколько кадров «Возвращения Натана Беккера». В остальных же фильмах декорации, как пишет Рошаль в связи с «Человеком из местечка», «имели подтекст: неминуемость революционного выхода» безотносительно еврейской фактуры.
Один из последних крупных фильмов в карьере Махлиса — это «Золушка» (1947). Автором эскизов был Николай Акимов, а Махлиса привлекли к съемкам в качестве опытного производственника, умеющего перевести эскизы не только на язык кино, но и на язык материалов, смет и экономных решений. Он печатался и цитировался в киножурнале АРК (Ассоциация революционной кинематографии), где рассказывал о своих рационализаторских предложениях и участвовал в дискуссиях о роли художника-постановщика в новом кино. В его архиве мы находим множество соображений о том, как лучше вести подготовительный период съемок, как следует разрабатывать сценарий, чтобы избежать лишних трудовых и денежных затрат, как экономить в экспедициях и на перевозке оборудования. Причем тексты эти часто писаны на обратной стороне рисунков, как бы говоря: можно творить, размышлять и экономить при этом бумагу.
И все же, думая о Махлисе-художнике и о Махлисе-производственнике, постоянно возвращаешься к мысли о том, кем Махлис так и не стал — например, автором собственных работ. Четырнадцать его фильмов не сохранилось. Или не стал мультипликатором, хоть и написал фрагмент либретто для анимационного фильма и, как карикатурист, имел склонность к созданию динамичных характерных образов. Но и в связи с тем, что удалось сделать, сложно избавиться от ощущения пугающей недоговоренности, недоведенности той самой, то барочной, то жесткой линии до индивидуального литературного звучания. Хочется сказать — до произнесенного честного слова.

Автор: Василиса Болдышева









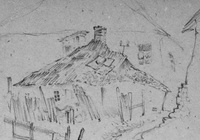

 ВКонтакте
ВКонтакте Telegram
Telegram Создание сайта —
Создание сайта — 